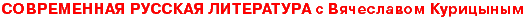|
СПб.... ИНАПРЕСС, 2000. 144 с. Тираж 1000 экз. (Серия «Кабинет... Картины мира». Вып. Е)
Очередной выпуск «Кабинета» с именами Виктора Мазина и Павла Пепперштейна на обложке занимает промежуточное положение между совместным трудом и сборником текстов двух авторов, между которыми не так уж много общего.
Во-первых, помимо «основной» работы «Шериф Моисей», в книгу входит также небольшой трактат Виктора Мазина «Жуткое и возвышенное» — довольно герметичное сочинение, объективная сложность которого усугубляется еще и тем, что объем постраничных примечаний заметно превышает объем основного текста — настолько заметно, что слово основной вновь хочется заключить в кавычки.
Во-вторых, каждой из глав общей работы эксплицитно присвоено единоличное авторство — но даже без инициалов в начале главы угадать, кому она принадлежит, не составило бы труда — так рознится стилистика соавторов.
Наконец, этот одновременно целостный (по затронутой проблематике и по сюжету) и разнородный, разноречивый корпус текстов, образующих «Шерифа Моисея», предваряет вступительная глава, на первый взгляд, слабо связанная с остальными главами. Она принадлежит П. П. и написана, по определению автора, в (квази)жанре «рациональной галлюцинации» (вернее, является описанием и итогом подобной «галлюцинации» — но ничто не мешает нам трактовать ее как литературный жанр). Данный термин коннотирует прежде всего невольность, безотчетность, спонтанность рассуждения, развертывающегося будто за пределами авторской воли или, как отмечает П. П., авторского вкуса. Декларированная таким образом невольность как нельзя лучше согласуется с профетическим характером текста и выступает как неявная легитимация этого профетизма — ведь у пророчества нет и не может быть конкретного, земного автора... оно ниспадает на пророка наподобие манны небесной.
Однако, отказавшись от терминологической строгости, на которой, пожалуй, стал бы настаивать автор, определение «рациональная галлюцинация» можно закрепить за творчеством П. П. и группы «Медицинская герменевтика» — и прежде всего за их (квази)теоретическими работами. Художественные тексты П. П. также изобилуют описаниями галлюцинаций, а оппозиция «галлюцинация — сновидение» — немаловажный ориентир его мысли. Различие между терминами этой дихотомии является одновременно различием между тем полем, где работает психоанализ, и тем, где психоанализ бессилен — полем «медицинской герменевтики», — а значит, различием между двумя соавторами, коим, несмотря на совместные усилия, вместе не сойтись (разумеется, в метафизическом, а не в эмпирическом смысле). Как говорит в другом месте сам П. П., сновидение есть шифр, открытый для толкования, т. е. символическое пространство, тогда как галлюцинация асимволична. Характерно, что пределом, к которому устремлены тексты П. П., оказывается мелкая деталь, подробность — будь то вещь или идея — настолько избыточная, объемная, хочется сказать, стереоскопическая, что дальнейшее истолкование становится невозможным.
На первый взгляд, кажется странным приписывать асимволизм практике «медгерменевтов», главным методом которых всегда была именно интерпретация, со временем почти полностью вытеснившая визуально-художественную практику. Интерпретация приобретает здесь поистине безграничные полномочия — как на уровне формы, так и на уровне содержания... ни одна мелочь, ни один факт не в состоянии от нее уклониться, и в то же время язык этой интерпретации не имеет прямых аналогов — он чересчур самобытен, самодостаточен, маргинален и вызывает неизменные подозрения в теоретической нелегитимности. Все интерпретаторские усилия «Медицинской герменевтики», кажется, подрывают саму идею нормальной, законной интерпретации. И дело не только в неизменной толике безумия, присущей этим истолкованиям (в «Шерифе Моисее» она не столь ощутима, как в «классических» текстах «МГ» — и все же существенна), но и в том, что, несмотря на все свое безумие и скандальность, они остаются неизменно убедительными и логичными — словом, рациональными.
Соответственно главы, принадлежащие П. П., написаны просто, прозрачно и, я бы сказал, почти конспективно — без внимания к «иррациональным» стилистическим изыскам. Напротив, главы В. М., «по содержанию» восходящие к серьезной философско-теоретической традиции, «по форме» отличаются повышенным вниманием к текстуальной фактуре, языковой суггестии и известной орнаментальностью — так, его излюбленным приемом является нанизывание однокоренных или близких по значению слов, многократно преломляющих «основное значение» (кавычки опять же неизбежны). Короче, если все упростить до предела, то тексты П. П. в своем истоке — это художественные произведения, мимикрирующие (подчас до неузнаваемости) под метафизический трактат с целью особо изощренного подрыва устоев научности и теоретичности, в то время как тексты В. М. — это философские сочинения, мимикрирующие под художественные произведения путем активной мобилизации риторических средств языка. И в этом — главное различие.
Его легко потерять из виду, поскольку идея или тема-лейтмотив, возникающая в тексте одного автора, переходит затем в текст другого и переписывается другим языком. Соавторы перебрасываются одним мячом, и поэтому можно решить, что и игра у них одна, общая, на деле же каждый из них ведет свою игру, а мяч, пересекая границу, попадает в поле действия иных сил, правил и целей.
Отсутствию единого, «трансцендентального», автора соответствует отсутствие столь же единого героя, о чем на первых же страницах сообщает В. М.... «Герой данного сочинения не один. Отражаясь в представлениях других героев, он оказывается в состоянии поступательного движения. Он преломляется, изображается, представляется. Это — Моисей Микеланджело Фрейда» (с. 20). Другими словами, Моисей искусства и Моисей науки. Или... Моисей-законодатель и Моисей-герой вестерна, шериф со звездой, застрявшей в мозгах. А также Фрейд — врач и больной; толкователь сновидений и сновидец; всевидящий и прозорливый отец-аналитик и бессильный сын, в ослеплении идолопоклонства не способный разглядеть рожки на голове «отца своего Моисея»; Фрейд-учитель и Фрейд-младенец на руках жестокосердного Юнга, терзающего его рассказами о «болотных мумиях».
Если представить книгу не как пространство игры, а как поле битвы, соперничества между философом и художником, то наиболее эффективной стратегией в этой борьбе будет стремление занять метапозицию по отношению к противнику, предложить «последнюю», исчерпывающую интерпретацию. Если так, то решающие маневры разворачиваются во второй части трактата, в двух больших главах — 9 и 10. Первая из них — она принадлежит В. М. — называется «Из рога изобилия». Рог изобилия — «продукт воображения», которому «приписаны материальные функции» (с. 58) — это, конечно же, метафора действий П. П., точность которой очевидна для каждого, кто хоть немного знаком с творчеством последнего — бесконечным продуцированием интерпретаций, текстов, идей и «бессмысленных» подробностей, выписанных, однако, с немыслимой тщательностью и правдоподобием. Другая глава, принадлежащая П. П., носит симптоматичное (особенно если прочесть его как декларацию) название «Моисей художник», и в ней эксплицируется тема различения искусства и философии (где художнику достается в конечном счете более комфортное положение), а также имитации художником роли философа — как свидетельствует данный текст, с ясным пониманием общей картины. Результатом является, судя по всему, ничья... во всяком случае, предпоследняя глава — совместное произведение В. М. и П. П., построенное как диалог, а финальное слово вообще передано третьему и заведомо беспристрастному лицу — Сергею Михалкову с нелепой аллегорией о похождениях советского Рубля (сновидением? галлюцинацией?). Без соавторских комментариев, кои уже неуместны — ведь это честная борьба равных противников.
АНДРЕЙ ФОМЕНКО
|